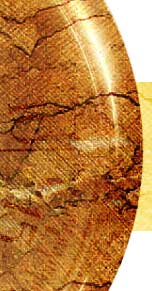Небесный альт, дворовый чад резины...
Давно пора забыть, как Робертино
завидовал я долгих тыщу лет –
с тринадцати до паспорта врученья.
Был пресен вкус морковного печенья
и в линзе с глицерином мутен свет...
Бельканто и теперь в печёнке где-то
вибрирует. А прежде бела света
не видел я, когда уже сверх сил,
с душой саднящей, с кирзовой гортанью,
глотая угловатое молчанье,
опять пластинку певчую крутил.
О, солнечные трели Робертино!
У той любви был едкий зев ангины.
У ревности, меж тем, не чёрный цвет –
она, скорее, в ромбах арлекина,
в расцветке шахмат следственно-причинной,
за мной ступала верно след во след.
Бредя асфальтом, чуял я отчасти,
что в той кручине был задаток счастья, –
и фокус этот сладил царь Горох, –
и что душе для истинного пенья
куда нужней, чем голое везенье,
солёно-горький повивальный вздох...
А ветер дул то холодно, то жарко.
Водил я в парк чепрачную овчарку,
и незаметно из рутины дней
в соседнем классе – небесам в острастку –
блеснула поступь маленькой гимнастки,
и что-то чисто серебрилось в ней.
Была ли снова песня безголосой?
На все по геометрии вопросы
циркачке ты серьёзно отвечал.
И зыбко, словно дискант издалёка,
светился легконогий абрис сбоку,
у странного начала всех начал...
Небесный альт, с гудрона чад резины...
Любовь и ревность – юные кузины.
Не рассудить, кто краше, кто умней!
Жаль одного – заметить, как стареют,
добреют-расползаются, дурнеют,
дабы исчезнуть за чертою дней...
|