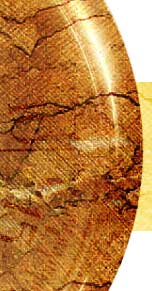Вернулся я – а тополи срубили...
Как горек тополиный мёртвый рот!
Один лишь брат, свидетель сна и были,
остался жив, корявый, у ворот.
Один – но во плоти два века живо.
Вот так вдали, сестра моей души,
две тыщи гефсиманских лет олива
молчит в саду в седеющей тиши.
На культях комля – переплески света.
А в тусклой мельхиоровой листве –
тень запаха, предчувствие Завета
о скорбном неухоженном родстве.
Вернулся я – с вершины Елеонской
мне виден бег строптивого Донца,
овечий топот дробный,
крупный, – конский, –
ещё слышны. Но не догнать гонца.
Порубленное, прорастая криво,
лишь смутно помнит белостенный дом,
где – окна в сад, где лица незлобливы,
где живы голубь, тополь и олива
в июле синем, в полдне золотом.
|