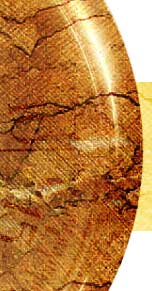Я – и здесь, у себя на ладони, и там, на плече
степняка-истукана, в полынной, до чресел, парче.
То ль я божья коровка на тыле десницы своей,
то ли пуля туза в белом теле семёрки червей…
Лишь вина я едок, не игрок, будто Герман какой!
Да и то – по чуток, по полкапли, всего по одной,
по бутылке на нос, мой товарищ и сводный мой брат,
мой, в окружность вчеканенный твёрдо, упрямец-квадрат!
Перепончатый Хронос иль ворох архангельских крыл
на бумагу, на порох, на компас меня вдохновил?
Как мильонный китаец, на босу я ногу встаю –
под счастливый свой ранец, под грубую лямку свою.
Не в руке брадобрея, в шершавой родной пятерне,
жменю камешков грею, добытых тобой на Луне,
из Ланкастеров Армстронг, – любезнее, чем Ариост,
«Аполлоном» скользнувший меж алых и девственных роз…
Но о Новой Зеландии – нет, не совру, промолчу:
эти птицы моа великаньи мне не по плечу.
В ярко-красных наколках маори танцуют войну.
Но возьму я лишь песню «Эль кондор», другую, – одну!
Песню – плату за кротость и верность от хищных богов,
плавный плач коренастых детей ледовитых клыков –
синевато-зеленых, безмолвно властительных Анд…
Я хочу слышать «Кондора», инка, иной музыкант!
Ибо сам я – в своей маете, словно в шкуре твоей,
в медном золоте кожи навеки певучих детей.
Ибо вновь пред свирелью древесною остановлюсь,
ощущая засечку на сердце, ранение-плюс…
Наша жизнь, Мачу-Пикчу, подросток, и днесь не плоха:
остывают, на жертвенном камне дымясь, потроха,
но от жадных жрецов и от жертволюбивых богов
отлетают к нам звуки, священней даров-потрохов.
Воспаривший «Эль кондор» над Старой Вершиной завис,
где шаманят внизу лицемер-популист с вице-мисс. Наша быль, Мачу-Пикчу, зажата в чужой пятерне,
и она же – парит над ущельем, над руслом на дне…
В человеческом детстве поёт простодушно свирель.
Буду жить в кулаке восемь месяцев – кликать апрель.
И не все ли одно – твой ли «Кондор» восходит в зенит,
мой ли, – «степью да степью» глухой,– колокольчик звенит?
|