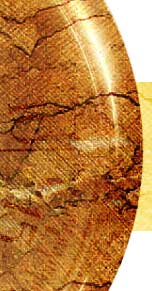Шалый ветер из Гента занёс меня в Лилль.
Ещё утром, во Фландрии, угольщик Тиль
Уленшпигель, – зерцала и филина брат, –
не жалел мне энергии, эм-цэ-квадрат,
подавая осенний эспрессо к столу,
обжигая листву в золотую золу...
Говорить по-немецки с фламандцами – гут!
Понимают и кофе охотно несут. –
Жаль мне Гент покидать, но однако же, в Лилль
въехал к вечеру я, в крепкокаменный вилль,
ибо резвый сквозняк продувной меня нёс,
ветер странствий влачил, скороход и матрос,
то по рельсам ездок, то по тучам летун,
неустанный – что в зной, что в мороз-колотун...
Впрочем, вечер сентябрьский был ясен и тих,
не суля ни дождя, ни осадков иных.
Зажигались на Ратушной площади бра,
и пилонами высилась Лилль-Опера.
И с гранитного цоколя бронзовый страж
озирал из-под длани – заката мираж.
Но внезапно, но вдруг – молодой ещё свет
обратился в тревожный, в густой фиолет...
И Атлантики воздух так враз потемнел,
что на миг я себя ощутил не у дел:
что за бес-сомелье заманил меня в Лилль?
Чьи три тысячи лье, соответственно миль,
соответственно вёрст, – на метле, по петле, –
прочертил я, чтоб вдруг, в сине-чёрном стекле,
оклематься, очнуться – один на один
с зазеркальною тягой утробных глубин?
И едва не завыл во мне пёс Баскервиль:
«Не ослаб ли душой ты в походе на Лилль?
Не забыл ли священных примет по пути:
не зевай, не моргай, на лету не свисти?»
Но, всю грудь осенив широченным крестом,
чью-то тень я спугнул, чей-то призрак-фантом...
И пошёл ночевать на арабский чердак -
да с покупкой «Бордо», а не как-нибудь так!
Ибо вправду – чем кровь винограда темней,
тем чужбина к тебе подступает родней,
подливает и врёт всё теплее: «Месье,
будет утром - тре бьен, будет всё – монпасье!»
|