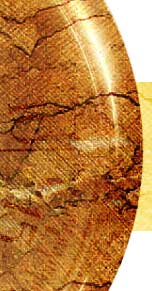Пушкин – пушист, серебрист. Под секретом при этом
Лондона Джека в тринадцать я больше любил. –
С Белым Клыком засыпал под сугробом валетом,
в ружьях Клондайка ценил скорострельности пыл.
В шубе онегинской век крепостничества мчится,
полозом санным скрипя, бубенцами звеня.
Снежный хорей в африканское сердце стучится,
в солнечный бубен морозного синего дня.
Я и теперь к ним тянусь, но уже по-другому:
помня, что дружества мёртвых – вернее иных.
Если живым отказал со стыдом я от дома,
знать, потому, что ломоть их – полова и жмых.
Вот и жую золотую, с мороза, солому.
Корм не в коня, а ясак да ярлык – не в меня.
Честному зверю, Клыку, ослепительно-злому,
верят во сне из-под снега мои зеленя.
А в январе леденеет, не ведая срама,
Пушкина плоть, и бледнеет кофейная кисть.
И еле шепчут лиловые губы Обамы:
«Вымерзли яблони ямбов. Опомнись, окстись!»
|