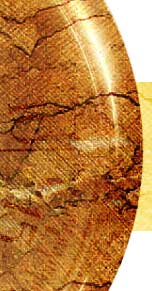Опять чугунный монстр в чугунной кепке,
торча торчком, венчает пьедестал. –
Феодосийский низенький вокзал
с колоннами минималистской лепки,
как прежде, жмётся к ветке рельс и шпал,
и привокзальный запах аммиака,
живучий, как бродячая собака,
покусывает щебень и металл.
Немытый поезд, харьковский рыдван
в четыре сорок подгребает к Понту.
Ещё чуть-чуть – и солнце к горизонту
поднимется, реализуя план,
начертанный Коперником и Бруно, –
усилиям Создателя вослед.
Сулит ли метафизика планет,
с учётом фаз Урана и Нептуна,
глоток удачи тем немногим дням,
что вырваны из вязкости батрацтва
для Кафы, для ритмического братства –
уже с обрывком жала пополам?..
В четыре сорок поезд смутных дней
со скрипом тормозит у кромки моря,
которое рифмуется с «лав стори» –
и в русле лет, похоже, лишь хмельней...
Похоже – длится позапрошлый год,
на склонах Карантина ночь средь башен.
Скудельный кайф твой, Кафа, жив и влажен,
и есть в тебе подземный тайный ход.
И, чем короче встреча, тем верней,
тем ясноглазей и моложе рифма.
Над аммиаком, Кафа, – свежесть мифа!
О ком я? О тебе. Но – и о ней...
|