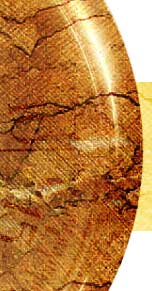Цветной хрусталь из грановитой Праги
тяжёл в твоей громоздкой пятерне.
Морские звёзды блещут в глубине,
подобно боевым десницам саги,
и россыпь ночи дышит над тобой
сквозь чёрный воздух первого июля.
Судья и царь, на колченогом стуле,
смешал ты с первородною виной
чернила каберне, чумное зелье
торгашеских таврийских берегов...
Кто прожил жизнь, кто к вычету готов,
тот от вина давно не ждёт веселья.
Лишь память от полночного глотка
плеснётся, чтоб вдогон воспоминанью
повеяла подземная река
студёным ветром близкого свиданья...
Глотнёшь и вспомнишь: Анна и Иван
под новый снег, под год шестидесятый,
шесть чаш богемских выделки богатой
достали, рассупонив чемодан.
За пятьдесят вослед мелькнувших лет
разбились золотой бокал, лиловый,
смарагд зелёный... А огранки новой,
на уровне их совершенства, нет!
Шесть раз ты ездил в островерхий Град
на поиски. И дочь твоя Елена
разыскивала тот же, незабвенный,
полвека подсветивший цветоряд...
Опять июль настал, и твой балкон
парит в ночи Нагорного района.
Но зов аэропорта, гул перрона
тебя тревожат тягой с двух сторон,
понеже ты обязан сам себе, –
вне клятв и заверений на бумаге, –
пройти и Вавилон до самой Праги,
и долгий пеший путь: от «а» и «б»
до края окоёма, до омеги...
Но странно всё ж: отважный ли, хмельной,
ты льнёшь уже к оседлости родной,
к наследной нитке скатерти льняной –
ещё до дерзкой фразы о побеге...
|