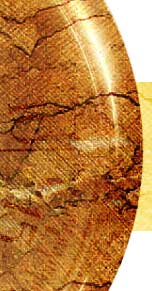Проезжая Черкассы, б/у вспоминаю, х/б –
времена гимнастёрки, казённо-линялой холстины.
И батяня комбат из районного ВИА «Любэ»
не жалеет для резкости фейса трёхдневной щетины.
Ты не ври мне, лазутчик, что Родины я не берёг.
Я присягой звенел – с «калашом» на ремне и под стягом!
Жаль, спилась милосердья сестра, и развесистый рог
над могилой героя кустится – скрипит над оврагом.
Даже, может быть, жаль, что не сам я в той глине затих,
упокоен гашишем, напалмом и долгом Афгана.
Всё равно не простят мне открыток и писем моих
ни секретный первейший отдел, ни отчизна обмана.
Снится мне, что ограблены напрочь – и голый погост,
и Чертановский, скажем, форпост многолюдного улья,
что в правдивом том сне еле-еле я ноги унёс
от осколка вдогон – лишь глотнув из воронки июля
отворотного зелья – в губительном сорок седьмом,
в окаянном году – лишь глоток первородного света...
Посредь зноя Черкасс впору сникнуть душой, и умом,
ибо сохнут черешни и заводи давнего лета.
Потому прежней радости, как бы ни рвался ты к ней,
как бы к цацкам и пецкам её ни тянулся спросонок,
не зови понапрасну во зле обличительных дней,
Красной Армии сивый старлей, повилики ребёнок!
Только детства глаза постаревшее время ведут
без напрасных упрёков и без тормозов малодушья.
Только юность отважными бликами дней и минут
заряжает АК-47, добровольца оружье.
Я за добрую волю с пехотною песней пойду
и, затвор передёрнув, смягчу подорожником рану.
Кто родился в одном с «калашом» неслучайном году,
в светлоглазом и памятью неоскудевшем роду,
помнит по именам – медуницу, лимонницу, Анну...
|