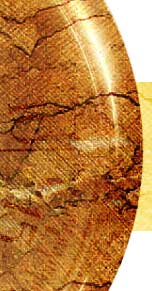Ушёл сентябрь, холодный и лучистый
в разрывах между тяжких облаков,
унёс кудрявый чуб зеленолистый
и пачку всласть исчёрканных листков.
Отчалил вдаль тридцатый день осенний,
тот день, где, синеглаз и сизокрыл,
читал стихи и бражничал Есенин,
где Хлебников пророчества бубнил.
Почил сентябрь, но скоро Маяковский
в пиджачной паре по Сумской пройдёт,
октябрьский громогласный гость московский,
огромный пленник собственных острот.
С ним рядом мрамор мухи Мандельштама,
живьё Каррары. – Сей, осой звеня,
бросает обвиненье в фальши, – прямо! –
румынскому оркестру злобы дня.
И марафетом от Мариенгофа
помечен курс истории стиха
здесь, среди стен и лестниц облсовпрофа,
где жизнь – скорей реальна, чем глуха.
Прошёл сентябрь. И стало больше солнца.
Как странно обращение времён!
Едва умывшись, сядешь у оконца
и снова врубишь старый патефон.
Осенняя сова рязанца кычет,
и Велимир глядит в очки ЧК.
И чёт, и нечет, и начёт, и вычет,
и некая счастливая тоска
о том, что все здесь были и остались
здесь – в подлинных узлах координат,
что давность нот и молодости малость
усилены любовью во стократ.
И вот, кого опять зову – Шенгели!
Всегда на мушке века, сам стрелок,
всегда без дураков, на самом деле –
Боспора свежий первозданный вздрог.
Он, восемь лет по Пушкинской шагая,
Эредиа, фелюгу и себя
сберёг средь флагов октября и мая,
пером, словно уключиной, скрипя.
Миллениум добит. Добыт и скраплен
из-под пластов иной метан для ТЭЦ.
Но греет память – рядом Чичибабин,
улыбкой брат, сединами отец...
Все были здесь и все слышны доныне.
Озоном слов их – лечится душа.
Ползвука от святыни до гордыни.
И, взвешен во всемирной паутине,
так и живёшь – и каясь, и греша...
|