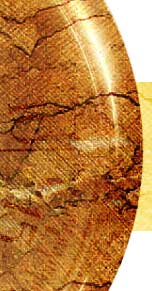Маме в её день
1.
Ау, гуманный увалень старинный!
Когда же ты устанешь, повзрослев,
оплакивать опавший цвет жасмина
и белый флёр каштановых дерев?
Всю ту красу, что наземь ливень плотный
сбивает... И всё крепнет вещий звон
о том, что ход событий безысходный
сжимает ныне круг со всех сторон.
И плач смешон по лепесткам, ведь завтра –
июнь, и беспредельщица-весна
сбежит, чтоб на когтях тиранозавра
вломилась в лето хищница-война. –
Чтоб весь июнь, июль и август зноем
разверстой пасти выморить дотла,
чтоб этот мир оставить не героям,
но хаосу безбожия и зла...
Покайся, ибо слаб. Пуста уловка
оправдываться путаницей вех.
Тот самый Суд. И рекогносцировка
окончена, и зверь сверкает ковко,
и смертен грех – уже один на всех...
2.
Стрижи летают высоко,
вещая ясный день на завтра.
До невесомости легко
парит над вязкой кривдой правда:
и ты уйдёшь, и все уйдут,
кто ныне жилы рвёт в запале.
Пребудут лишь стрижи минут,
что в небе и в душе летали –
одновременно здесь и там,
и в ярко-синей тайне Бога,
и вдоль химер наземных драм,
мятущихся без эпилога, –
над суриковой жестью крыш,
где за окном чердачным пыльным
ты, отрок, пёрышком скрипишь,
любвеобильным, семижильным.
И золотится девясил
внизу, одушевляя глину,
которой век ты дань носил,
чтоб все холмы родных могил
собрать любовью воедино...
|